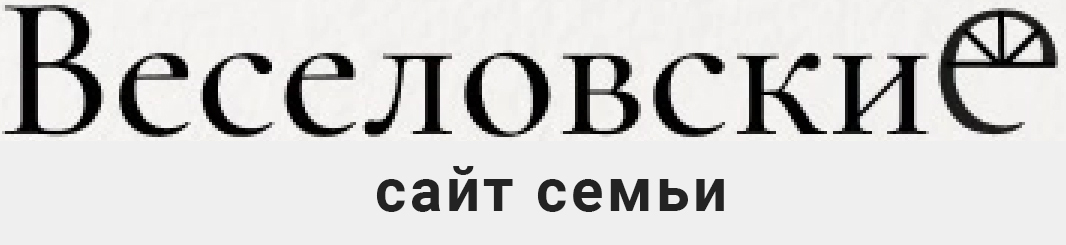А. Веселовский. Студентка – баба Нина
Державинский вестник. – 2002. – (№ 2). – с. 3.
Как это было
СТУДЕНТКА – БАБА НИНА
Сейчас то и дело слышишь жалобы, что образование становится платным. А вот 70 лет назад при поступлении в вуз требовалось незапятнанное социальное происхождение. Уж не знаю, что лучше...
Абитуриентом человек бывает недолго – всего какие-то недели между подачей заявления и зачислением его в веселое студенческое братство. Но это, без сомнения, один из самых ответственных и тревожно-радостных периодов в жизни. Ровно семьдесят лет назад, в 1932 году, вот так же, как и нынешние студенты, с замиранием сердца, искала себя в списках принятых в Тамбовский педагогический институт моя прабабушка Нина Семеновна Хлебникова.
Когда говорят, что раньше было легче поступить в высшее учебное заведение, я сразу вспоминаю ее судьбу и думаю, что понятие «легче» – весьма относительно. В тот год ее приняли сразу, не пришлось даже сдавать экзамены. Но до этого прошло целых шесть лет после окончания школы, когда у нее не было даже надежды на то, что в комиссии примут ее заявление. Да, в то время все решали даже не знания, а социальное положение вчерашнего школьника, то есть в первую очередь – его происхождение. А бабу Нину (как я звал прабабушку в детстве) происхождение подвело. В этой графе у нее стояло: «дочь торговца». Никого не интересовало, что этот торговец умер, когда девочке было всего шесть лет, что и при жизни отца семья еле-еле сводила концы с концами – у него была крохотная дощатая лавчонка (сейчас ее, наверно, назвали бы киоском), где он продавал старое железо. Но раз не из семьи рабочих или крестьян – значит «чуждая», а таким двери вузов были закрыты.
И баба Нина пошла работать. Нет, не сразу. Сначала были два года стояния на бирже труда – НЭП еще диктовал свои условия. Не помогало и то, что она закончила школу «с педагогическим уклоном». Место учителя мог получить только член профсоюза, а чтобы вступить в профсоюз – нужно было не менее года проработать по этой специальности. Замкнутый круг. В конце концов в 1928 году эта городская девочка поехала учительствовать в глухое село.
В Челновой, а потом в Сураве она попала в самый разгар коллективизации. Помню, в детстве я подолгу не мог заснуть после ее рассказов о раскулаченных, о том, как ее чуть не убили крестьяне во время читки статьи Сталина «Головокружение от успехов», как директор школы срывал в избах иконы и выслеживал у церкви верующих учеников. Мал я был тогда и слишком впечатлителен. Но все равно на всю жизнь благодарен прабабушке за яркие картины нашего прошлого.
... А студенческая жизнь началась, когда бабе Нине было уже двадцать три года, она развелась с мужем и осталась с годовалой дочкой на руках. Только тогда начальство пошло ей навстречу и дало «командировку на учебу» – так тогда называлось направление в институт. Теперь ей уже ничего не мешало стать студенткой – в графе «социальное положение» вместо происхождения стояло слово «служащая» и в скобках «учительница». Уже не чуждая...
Но вскоре радость сбывшейся мечты стала тускнеть из-за постоянного чувства голода. В перерывах между парами девушки «стреляли» у ребят папироски – после двух-трех затяжек уже не так хотелось есть. Время до обеденного перерыва тянулось ужасно медленно. Баба Нина однажды нашла в старом учебнике клочок бумаги и показала его мне: «Осталось 15 минут. Ура!». Так в начале тридцать третьего они с подругой ждали конца лекции и морально поддерживали друг друга.
...Студенты шумною толпою врываются в столовую. В тарелках серая мутная водичка с обрывком капустного листа (я почти цитирую прабабушкины слова). Ею можно только слегка заглушить аппетит, но не наесться. Хлебушка бы, хоть кусочек. Но его надо отнести домой голодной дочке и старой матери.
Как-то у бабы Нины и ее подруги Тани эти крохотные пайки заметил голодный старик. Он шел за ними через весь город повторяя, как заклинание: «Хлеба... Хлеба...». Девушки отщипнули ему по кусочку – отдать все было бы предательством по отношению к родным. Но старик не отставал. А наутро баба Нина увидела его, уже окостеневшего, в телеге с другими трупами. Эту телегу она встречала довольно часто, в нее собирали всех, кто умер за ночь на улицах города. На привокзальную площадь ездила другая подвода, а то и сразу две – умирающих от голода крестьян Украины и Поволжья там было слишком много...
Но самым страшным был не столько голод, сколько то, что о нем нельзя было говорить. Однажды на гневный вопрос комсорга, почему на собрание не пришли две студентки, староста группы честно ответил, что девочки голодные, из-за задержки стипендии они не ели несколько дней и теперь не могут подняться с постели. «В советской стране не может быть голода. Шапкин – апологет троцкизма и ведет антисоветскую пропаганду», – эти слова комсомольского вожака были по сути дела приговором. Баба Нина решила вступиться за старосту и подтвердила его слова. И тут же новый приговор, уже для нее: «Шапкин – апологет троцкизма, а Хлебникова – апологет Шапкина...».
На общем собрании решался вопрос об их отчислении. Шапкина исключили. Прабабушку спасло, что на ее защиту встали однокурсники. Большинством голосов было решено вынести ей выговор, снять со стипендии, но оставить в институте.
Но здесь – новые события. Ликвидировались привычные губернии и были созданы края. В центральном Черноземье «столицей» стал Воронеж. Туда в середине тридцатых были переведены из ставших провинциальными Курска, Белгорода, Тамбова все основные учреждения, в том числе и вузы. Тамбовский педагогический институт на время перестал существовать. Бабе Нине оставалось учиться всего год. Очень не хотелось переходить на заочное. И она поехала в Воронеж.
Большинство выпускников Воронежского пединститута, кто начинал свое обучение в Тамбове, вернулись в свой город. Баба Нина и ее подруга Маргарита Мельхиседекова потом до самой пенсии работали в педагогическом училище, их однокурсник Борис Двинянинов руководил кафедрой литературы Тамбовского педагогического института, другие преподавали в школах и техникумах.
Как они дружили! Собирались вместе, ездили друг к другу в гости. Я застал уже последних оставшихся в живых. И хотя был тогда еще в начальной школе, невольно поражался, как весьма почтенные дамы, возраст которых подходил к девятому десятку, болтают на студенческом сленге своей юности, вспоминают всякие «приколы» и хохочут, как девчонки. Нет, кто побывал в своей жизни студентом, не излечится от этого состояния никогда.
А. ВЕСЕЛОВСКИЙ.
Как это было
СТУДЕНТКА – БАБА НИНА
Сейчас то и дело слышишь жалобы, что образование становится платным. А вот 70 лет назад при поступлении в вуз требовалось незапятнанное социальное происхождение. Уж не знаю, что лучше...
Абитуриентом человек бывает недолго – всего какие-то недели между подачей заявления и зачислением его в веселое студенческое братство. Но это, без сомнения, один из самых ответственных и тревожно-радостных периодов в жизни. Ровно семьдесят лет назад, в 1932 году, вот так же, как и нынешние студенты, с замиранием сердца, искала себя в списках принятых в Тамбовский педагогический институт моя прабабушка Нина Семеновна Хлебникова.
Когда говорят, что раньше было легче поступить в высшее учебное заведение, я сразу вспоминаю ее судьбу и думаю, что понятие «легче» – весьма относительно. В тот год ее приняли сразу, не пришлось даже сдавать экзамены. Но до этого прошло целых шесть лет после окончания школы, когда у нее не было даже надежды на то, что в комиссии примут ее заявление. Да, в то время все решали даже не знания, а социальное положение вчерашнего школьника, то есть в первую очередь – его происхождение. А бабу Нину (как я звал прабабушку в детстве) происхождение подвело. В этой графе у нее стояло: «дочь торговца». Никого не интересовало, что этот торговец умер, когда девочке было всего шесть лет, что и при жизни отца семья еле-еле сводила концы с концами – у него была крохотная дощатая лавчонка (сейчас ее, наверно, назвали бы киоском), где он продавал старое железо. Но раз не из семьи рабочих или крестьян – значит «чуждая», а таким двери вузов были закрыты.
И баба Нина пошла работать. Нет, не сразу. Сначала были два года стояния на бирже труда – НЭП еще диктовал свои условия. Не помогало и то, что она закончила школу «с педагогическим уклоном». Место учителя мог получить только член профсоюза, а чтобы вступить в профсоюз – нужно было не менее года проработать по этой специальности. Замкнутый круг. В конце концов в 1928 году эта городская девочка поехала учительствовать в глухое село.
В Челновой, а потом в Сураве она попала в самый разгар коллективизации. Помню, в детстве я подолгу не мог заснуть после ее рассказов о раскулаченных, о том, как ее чуть не убили крестьяне во время читки статьи Сталина «Головокружение от успехов», как директор школы срывал в избах иконы и выслеживал у церкви верующих учеников. Мал я был тогда и слишком впечатлителен. Но все равно на всю жизнь благодарен прабабушке за яркие картины нашего прошлого.
... А студенческая жизнь началась, когда бабе Нине было уже двадцать три года, она развелась с мужем и осталась с годовалой дочкой на руках. Только тогда начальство пошло ей навстречу и дало «командировку на учебу» – так тогда называлось направление в институт. Теперь ей уже ничего не мешало стать студенткой – в графе «социальное положение» вместо происхождения стояло слово «служащая» и в скобках «учительница». Уже не чуждая...
Но вскоре радость сбывшейся мечты стала тускнеть из-за постоянного чувства голода. В перерывах между парами девушки «стреляли» у ребят папироски – после двух-трех затяжек уже не так хотелось есть. Время до обеденного перерыва тянулось ужасно медленно. Баба Нина однажды нашла в старом учебнике клочок бумаги и показала его мне: «Осталось 15 минут. Ура!». Так в начале тридцать третьего они с подругой ждали конца лекции и морально поддерживали друг друга.
...Студенты шумною толпою врываются в столовую. В тарелках серая мутная водичка с обрывком капустного листа (я почти цитирую прабабушкины слова). Ею можно только слегка заглушить аппетит, но не наесться. Хлебушка бы, хоть кусочек. Но его надо отнести домой голодной дочке и старой матери.
Как-то у бабы Нины и ее подруги Тани эти крохотные пайки заметил голодный старик. Он шел за ними через весь город повторяя, как заклинание: «Хлеба... Хлеба...». Девушки отщипнули ему по кусочку – отдать все было бы предательством по отношению к родным. Но старик не отставал. А наутро баба Нина увидела его, уже окостеневшего, в телеге с другими трупами. Эту телегу она встречала довольно часто, в нее собирали всех, кто умер за ночь на улицах города. На привокзальную площадь ездила другая подвода, а то и сразу две – умирающих от голода крестьян Украины и Поволжья там было слишком много...
Но самым страшным был не столько голод, сколько то, что о нем нельзя было говорить. Однажды на гневный вопрос комсорга, почему на собрание не пришли две студентки, староста группы честно ответил, что девочки голодные, из-за задержки стипендии они не ели несколько дней и теперь не могут подняться с постели. «В советской стране не может быть голода. Шапкин – апологет троцкизма и ведет антисоветскую пропаганду», – эти слова комсомольского вожака были по сути дела приговором. Баба Нина решила вступиться за старосту и подтвердила его слова. И тут же новый приговор, уже для нее: «Шапкин – апологет троцкизма, а Хлебникова – апологет Шапкина...».
На общем собрании решался вопрос об их отчислении. Шапкина исключили. Прабабушку спасло, что на ее защиту встали однокурсники. Большинством голосов было решено вынести ей выговор, снять со стипендии, но оставить в институте.
Но здесь – новые события. Ликвидировались привычные губернии и были созданы края. В центральном Черноземье «столицей» стал Воронеж. Туда в середине тридцатых были переведены из ставших провинциальными Курска, Белгорода, Тамбова все основные учреждения, в том числе и вузы. Тамбовский педагогический институт на время перестал существовать. Бабе Нине оставалось учиться всего год. Очень не хотелось переходить на заочное. И она поехала в Воронеж.
Большинство выпускников Воронежского пединститута, кто начинал свое обучение в Тамбове, вернулись в свой город. Баба Нина и ее подруга Маргарита Мельхиседекова потом до самой пенсии работали в педагогическом училище, их однокурсник Борис Двинянинов руководил кафедрой литературы Тамбовского педагогического института, другие преподавали в школах и техникумах.
Как они дружили! Собирались вместе, ездили друг к другу в гости. Я застал уже последних оставшихся в живых. И хотя был тогда еще в начальной школе, невольно поражался, как весьма почтенные дамы, возраст которых подходил к девятому десятку, болтают на студенческом сленге своей юности, вспоминают всякие «приколы» и хохочут, как девчонки. Нет, кто побывал в своей жизни студентом, не излечится от этого состояния никогда.
А. ВЕСЕЛОВСКИЙ.